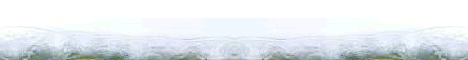Канадский пианист Глен Гульд (1932-1982) – пожалуй, самый «странный гений» фортепиано.
Непревзойденный интерпретатор музыки И. С. Баха, он был не менее известен эксцентричностью взглядов и полной свободой от исполнительских, музыковедческих и социальных штампов.
Принципиальная нелюбовь к романтикам (музыку которых он почти не играл), «снисходительное» отношение к Моцарту, эпатирующее поведение за кулисами и на сцене, а потом добровольное восемнадцатилетнее затворничество в студии звукозаписи, плодом которого были как абсолютные шедевры, так и почти «хулиганские» записи (например, популярных сонат Бетховена), сделали Гульда таким же мифом, как Мария Каллас или Артуро Тосканини.
После его концертов в СССР в 1957 году имя исполнителя оказалось окружено особым ореолом непостижимости, поскольку в нашей стране о нём не было издано ни одной книги в течение нескольких десятилетий. Это порождало домыслы и самые невероятные легенды. Лишь в 2003 году московское издательство «Классика-XXI» выпустило первую в России книгу о великом пианисте (Б. Монсенжон. «Глен Гульд. Нет, я не эксцентрик!»).
Предлагаем вашему вниманию статью А. Майкапара из журнала «Музыкальная жизнь», написанную в1983 году, вскоре после смерти пианиста.
НЕЗНАКОМЫЙ ГЛЕН ГУЛЬД
…Глен Гульд – ярчайшая фигура в пианистическом искусстве второй половины XX века, пианист, заставивший пересмотреть многие традиционные представления о фортепианном исполнительстве. Его интерпретация произведений Баха произвела подлинный переворот во взглядах на стиль исполнения музыки великого мастера. Не о всяком даже очень крупном музыканте можно сказать это. Гульд настолько оригинален, что все попытки подражать ему оказались безуспешны.
И если верен афоризм Бюффона “стиль – это человек”, то для того, чтобы глубже понять стиль Гульда, надо больше узнать о нем как о личности. Тогда полнее раскроется творческое кредо музыканта, станет яснее его выбор репертуара – порой довольно неожиданный, основу которого составляли Бах и композиторы Новой венской школы (Шёнберг, Веберн, Берг), найдут оправдание многие “странности” его манеры игры. “Только огромнейший талант, большой мастер, высокий дух и глубокая душа могут так постигать и передавать “старину” и “сегодняшний день”, как это делает Глен Гульд”, – писал Генрих Нейгауз после первого концерта в Москве совсем еще юного музыканта.
Несмотря на неослабевающий интерес к искусству Гульда, у нас не было издано ни одного обстоятельного исследования о нем, почти ничего из его опубликованных работ и интервью не переведено на русский язык. Цель статьи – познакомить читателя с самим Гульдом и его суждениями – порой спорными, но всегда интересными – о музыке и исполнительском искусстве.
Начало пути
Глен Гульд родился 25 сентября 1932 года в Торонто. Его мать играла на органе и фортепиано, отец был скрипачом-любителем. Когда мальчику исполнилось три года, не оставалось сомнений, что он обладает исключительными музыкальными способностями. В пять лет Гульд решил стать композитором, свои сочинения он играл родителям и друзьям. Мать Глена учила его музыке до десяти лет. Первое посещение концерта состоялось, когда Гульду было шесть лет.
“Играл Гофман, – вспоминал Гульд. – Я думаю, это было его последнее выступление в Торонто. Оно произвело на меня умопомрачительное впечатление. Отчетливо помню, что, когда я ехал в машине домой, я находился в том чудесном полусознательном состоянии, в котором человек способен слышать совершенно невероятные звучания, переполняющие его. Все эти звуки были оркестровыми, но производил их я один. И вдруг я стал Гофманом. Я был околдован.”
Десяти лет Гульд поступил в Торонтскую консерваторию. К этому времени он уже играл целиком первый том “Хорошо темперированного клавира” Баха. Наиболее сильное влияние на Гульда оказало искусство А. Шнабеля. Гульд так говорил об этом: “Когда мне было лет десять (я думаю, только в этом возрасте имеешь кумиров), у меня действительно был бог – Шнабель, если говорить об исполнителях. На его Бетховене и в какой-то степени Шуберте и Брамсе я воспитывался. Это было, я думаю, потому что Шнабель, казалось, не слишком заботился о рояле как инструменте. Для него он был лишь средством для достижения цели, а цель – постижение Бетховена”.
В январе 1955 года состоялся дебют Гульда в США. Сразу же после этого выступления пианисту был предложен контракт с фирмой грамзаписи Columbia. Летом того же года Гульд впервые появился в студии фирмы, чтобы сделать ставшую знаменитой запись “Гольдберг-вариаций” Баха.
Начав пианистическую карьеру с произведений, которыми иные музыканты ее завершают (за “Гольдберг-вариациями” последовала Соната № 29, ор. 106 Бетховена), Гульд позже записал все баховские клавирные циклы – Инвенции, Французские и Английские сюиты, Партиты, “Хорошо темперированный клавир”. Его глубочайшее понимание стиля великого композитора бесспорно. Но вот парадокс: его “подлинный” Бах – есть только его Бах. Иными словами, гульдовское исполнение абсолютно уникально. Его темпы, его артикуляция, его динамика, его орнаментика – по каждому из этих пунктов Гульд может быть (и был!) оспорен – оказываются убедительными только в его трактовке, в его игре. А игра Гульда, отмеченная огромным напряжением мысли и воли, захватывала…
Первая же пластинка принесла Гульду всемирную известность. Его концерты проходили в крупнейших городах и лучших залах мира. Он играет с оркестрами, которыми дирижируют Л. Бернстайн, Г. фон Караян, Д. Митропулос. Его первое европейское турне состоялось в 1957 году. В Москве и Ленинграде выступления Гульда тогда стали сенсацией. Г. Нейгауз восторженно писал: “Скажу прямо, пианист Глен Гульд – не просто пианист, это – явление.”
Против духа соперничества
28 марта 1964 года Гульд дал свой последний сольный концерт и совершенно отказался от публичного концертного исполнительства. Что побудило его прекратить концертную деятельность? Многим решение Гульда тогда казалось, да и сейчас кажется капризом гения. Однако отказ этот никак нельзя считать каким-то импульсивным решением. Почти за десять лет до того, отвечая на вопрос корреспондента, каковы его планы на будущее, Гульд сказал: “Обеспечить свое материальное положение так, чтобы иметь возможность не концертировать”. Чтобы понять это решение, необходимо осознать две вещи: каково отношение Гульда к концертной форме музицирования и в чем он видит смысл своей собственной деятельности.
Что касается неприятия концертного музицирования, то причин для этого у Гульда оказалось несколько. Он считал, что публику привлекает в концертный зал зрелище катастрофы, жертвой которой является исполнитель. Публика “жаждет крови” – так определяет Гульд её интерес. “В живых концертах я чувствую себя униженным шутом”.
Но главное – концертное исполнительство, как считает Гульд, неразрывно связано с соперничеством, которое во всех его проявлениях – спорте, играх, коммерции – совершенно неприемлемо для него.
“Исполнение на арене (именно так Гульд называет концертное выступление. – А. М.) никогда не привлекало меня. Я всегда чувствовал, что должен обороняться. Даже из того малого, что я знал о политике и бизнесе, было очевидно, что карьера пианиста-солиста неизбежно вовлекает в соперничество… Я не чувствовал в себе силы воевать против семнадцатилетних пианистов, игравших, по всей вероятности, гораздо лучше меня. Музицирование не дело состязания, а дело любви”.
Гульд столь болезненно ощущал этот дух соревнования, что чувствовал его в отношении концертирующего исполнителя даже к… самому себе. “Публичные музыкальные исполнения, – суммирует идеи Гульда канадский исследователь его творчества Дж. Пэйзант, – являются соперничеством в нескольких смыслах: исполнитель конкурирует со своей собственной записью данного произведения, со своими собственными предыдущими исполнениями данного произведения; в инструментальном концерте солист соревнуется с оркестром, исполнитель должен “завоевать” свою публику, обязан иметь “триумф” в Нью-Йорке или Москве”.
Если принять гульдовский взгляд, перестает казаться капризом, например, требование Гульда запретить аплодисменты на концерте. Аплодирование, по его мнению, дает аудитории фальшивое чувство активного участия в творческом акте, а самих исполнителей толкает на неверный путь поисков средств для получения все больших и больших оваций.
Гульд не раз предпринимал попытки устранить дух соперничества даже между солистом и оркестром в инструментальном концерте. Одним из таких опытов было его исполнение в 1962 году Концерта ре минор Брамса с Нью-йоркским филармоническим оркестром под управлением Л. Бернстайна. Интерпретация Гульда была настолько необычной, что Бернстайн счел необходимым перед исполнением Концерта обратиться к телезрителям с заявлением, в котором отделил себя и оркестр от предлагаемой Гульдом трактовки.
Вторая причина, заставившая Гульда отказаться от публичного концертирования, заключается в необычайной широте его музыкальных интересов и планов, для осуществления которых ему необходима была бóльшая свобода, нежели та, которую он имел, будучи концертантом. Гульд – автор сорока пяти опубликованных статей (по библиографии, составленной Дж. Пайзачтом на 1978 год), не считая его многочисленных аннотаций к своим записям, превратившихся в ряде случаев в высшей степени оригинальные исследования. Кроме того, с участием Гульда снято несколько фильмов, например, “Беседы с Гленом Гульдом”. Это четырехсерийный фильм (каждая серия по 40 минут: 1 – Бах, 2 – Бетховен, 3 – Шенберг, 4 – Рихард Штраус). Другие фильмы еще более продолжительны.
“Я всегда хотел, – говорил Гульд, – заниматься многими вещами. Со всей определенностью мне хотелось быть композитором”. Из опубликованных сочинений Гульда можно назвать Струнный квартет, ор. 1, и “Так вы хотите написать фугу?” – сочинение для четырехголосного смешанного хора в сопровождении фортепиано или струнного квартета, а также каденции к фортепианному Концерту до мажор Бетховена.
Музыкант барокко
Характеризуя идеи А. Шнабеля, Гульд заметил, что Шнабель мало заботился о специфически фортепианном звучании, его интересовало главное – та музыка, для выражения которой рояль был средством. Шнабель, а еще раньше и его учитель Т. Лешетицкий, осознавали это. Шнабель вспоминал: “На протяжении всех этих лет (занятия в Вене у Лешетицкого. – А. М.) он постоянно в присутствии многих говорил мне: “Вы никогда не будете пианистом. Вы музыкант”. Для Лешетицкого, так же как позже для Шнабеля, а потом и для Гульда, быть пианистом значило быть в первую очередь виртуозом, причем Гульд обращает внимание на то, что виртуоз гораздо меньше интересуется подлинно великими творениями, поскольку величие их заключено в них самих и не оставляет места для проявления величия самого виртуоза. Трудность характеристики отношения Гульда к клавиатуре заключается, как это ни парадоксально в том, что Гульд безусловно являлся великим пианистом (это относится и к Шнабелю!). Поэтому может показаться странным утверждение, что его не интересует специфика фортепианного звучания. Но вот слова самого Гульда:
“Корр.: У Вас нет желания играть Шопена?
Гульд: Нет, это мне совсем не подходит. Я играю Шопена в минуту расслабленности, может быть, раз-другой в год, но эта музыка меня не убеждает… Когда я слышу ее в великолепном исполнении подлинного шопениста, она может меня увлечь, но только ненадолго. Шопен, безусловно, был невероятно одаренным человеком. Однако в произведениях крупной формы он почти всегда терпел неудачу. Как миниатюрист он, я полагаю, превосходен. Никто не может сравниться с ним в передаче настроения, его знание рояля беспрецедентно. Но и раньше, и теперь, он не тот композитор, с которым мне легко.
Корр.: В таком случае, для вас мало, чтобы композитор был пианистичным в смысле точного знания сокровенных тайн рояля…
Гульд: В сущности, большинство композиторов, которых я играю, оказывается в моем репертуаре по совершенно иным соображениям.
Корр.: Кто, по-вашему, писал наиболее совершенно для рояля?
Гульд: Думаю, мой ответ будет традиционен – Шопен. Если рояль для вас значит то же, что он значил для Шопена, – тогда Шопен. Но я ценю в рояле другое. Коль скоро брать у рояля все, то значит использовать и многое такое, к чему я испытываю сильную антипатию. Например, педаль”.
Шокирующее заявление. Но если прослушать много записей Гульда, то признаешь, что, во-первых, действительно, чисто фортепианных и, в частности, педальных эффектов в них крайне мало (никакого сравнения с искусством, скажем, Артура Рубинштейна), во-вторых, что Гульд не ограничивает фортепиано звучанием только лишь фортепиано (это, как мы увидим, он не раз декларировал), и, в-третьих, произведения Шопена не входят в репертуар Гульда, так же как, впрочем, и в репертуар А. Шнабеля.
Отношение Гульда к различным клавишным инструментам аналогично отношению клавиристов эпохи барокко ко всему семейству клавиров – органу, клавесину, клавикорду и фортепиано. Для них, как и для Гульда, не существовало непреодолимого барьера между этими инструментами. Гульд играл и на органе, и на клавесине, и на рояле. Он не раз высказывался о них. Из его органных записей известны девять фуг из “Искусства фуги” Баха. Гульд намеревался записать весь цикл, но не успел. Он говорил, что хотел бы каждый год выпускать по одной органной пластинке.
“Орган имел огромное влияние не только на мой более поздний вкус по части репертуара, но, я думаю, также и на физическую манеру моей игры на рояле. Это была бесценная практика. Я играл на органе, когда мне было лет 9-10, главным образом произведения Баха и Генделя. Именно благодаря органу начался мой интерес к ним… Я узнал, что, исполняя Баха, фразируешь иначе, чем когда играешь Шопена, где делаешь crescendo в середине фразы. На органе фразировка достигается агогикой и дыханием. На рояле для этого необходимо выработать совершенно особый подход – исполнение, основанное на чуткости самых кончиков пальцев, что может произвести эффект, подобный звучанию старинных органов. На рояле это возможно достичь, играя практически поп lеgаtо и без сильных затуханий звучности, не говоря уж об исключении педали, с которой часто исполняют Баха на рояле”.
Что касается клавесина, то Гульд записал на нем первые четыре сюиты Генделя и, по-видимому, намеревался продолжить эту работу. Его высказывания свидетельствуют о том, что клавесин ему очень нравился. “Я люблю звучание клавесина и те эффекты, которые на нем возможны, – говорил Гульд, сожалея в то же время о том, что клавиши клавесина меньше фортепианных. – Существует только один инструмент, ни котором я могу играть – клавесин фирмы Wittmayer. Я предпочитаю его из-за размера клавиш, в частности их ширины, которая у него такая же, как у клавиш рояля”.
О звучании рояля и требованиях, предъявляемых ему, Гульд говорил часто. Инструмент, который мы слышим на гульдовских пластинках, выпущенных, начиная с 1964 года, то есть с момента записи двух- и трехголосных инвенций, – это рояль “Стейнвей”, о котором пианист писал: “Я испытываю к нему бóльшую привязанность, нежели к какому-либо другому роялю. В течение последних нескольких лет он хранился исключительно для наших сеансов в студии фирмы грамзаписи Columbia. Никто, кроме меня, не проявлял к нему большого интереса, и это дало мне возможность произвести довольно решительные эксперименты с его механикой, а именно приспособить его для барочного репертуара, что прибавило к неоспоримым ресурсам современного рояли леность, чистоту и осязаемое блаженство клавесина.
Для тех сеансов грамзаписи, которые были связаны с более недавним и собственно фортепианным репертуаром, мы не предъявляли к этому инструменту каких-либо требований. Но перед каждой баховской записью последних нескольких лет он подвергался значительной хирургической операции. Такие существенные механические особенности, как расстояние между молоточком и струной, репетиционный механизм и так далее – всё это было в значительной степени пересмотрено в соответствии с моим твердым убеждением, что ни один рояль не чувствует потребности быть ограниченным и всегда звучать только лишь как фортепиано. Будучи используемым в новом качестве, старый “Стейнвей” смог дать звучание столь непосредственное и чистое, что то non legato, которое так существенно для Баха, оказалось на нем с легкостью выполнимо… Операция, произведенная перед записью инвенций, были так успешна, что мы с наслаждением погрузились в процесс записи, не возвращая затем инструмент, как это обычно бывало, в первоначальное состояние. В результате наш энтузиазм по отношению к довольно необычному звучанию, которым мы теперь овладели, подвигнул нас довести до минимума одно небольшое побочное явление, которым сопровождалась игра – легкий нервный тик, своего рода “икание” – оно было особенно заметно в медленных пассажах в среднем регистре… Должен признаться, что, привыкнув к нему, я теперь нахожу эту очаровательную особенность достойной того замечательного инструмента, которому она обязана своим происхождением. Я могу дать ей даже рационалистическое обоснование, сравнив этот эффект с предрасположенностью клавикорда к вибрато внутри одного звука. Как бы то ни было, мы хотели бы сохранить данное звучание, и дефект исправлять тем способом, какой обычно предлагаем надпись на телеэкране, когда звук и изображение не совпадают – “не настраивайте – мы регулируем”.
Новые концепции грамзаписи
“Не настраивайте – мы регулируем”. Эта формула со временем начинает играть все более важную роль в гульдовской концепции грамзаписи. Он не раз иллюстрировал основные идеи ее несколькими характерными историями. Приведем их в его собственном изложении.
История первая.
“В декабре 1950 года я впервые принял участие в радиопередаче и сделал открытие, которое самым глубоким образом повлияло на мое развитие как музыканта. Я обнаружил, что в уединении и тишине студии можно музицировать более непосредственно и задушевно, нежели в каком бы то ни было концертном зале. В тот день я влюбился в радиопередачу. С тех пор я не мог думать о скрытых возможностях музыки (а в связи с этим и о моих потенциальных возможностях как музыканта), не связывая это с безграничными возможностями грамзаписи. Микрофон никогда не был для меня тем враждебным, клиническим, устрашающим и безжалостным аналитиком, как для тех, кто его боится и потому ругает его. С того памятного дня микрофон стал и до сих пор остается моим другом”.
История вторая.
Когда я записывал “Гольдберг-вариации” Баха, я пропустил тему – очень простую арию, на которой строятся вариации, и оставил ее до тех пор, пока не записал удовлетворительно все вариации. Затем я вернулся к этой бесхитростной маленькой сарабанде, и в результате потребовалось двадцать вариантов в поисках верного ее характера, который должен быть достаточно нейтральным, чтобы не предвосхищать глубины того, что следует дальше в произведении. Исполняя эту простую тему, необходимо избавиться от всех излишеств. Но это и есть самое сложное. Естественный инстинкт исполнителя – прибавлять, а не убавлять. Как бы то ни было, тема, как она звучит в моей записи, – это 21-й вариант”.
История третья.
“Выявить на рояле структуру фуги ля минор из I тома “Хорошо темперированного клавира” Баха более трудно, нежели форму любой другой баховской фуги… В процессе ее записи мы сделали восемь вариантов. Два из них сочли удовлетворительными. Оба они – шестой и восьмой – были цельными и не требовали дописок и вклеек. Однако несколько недель спустя, когда результаты записи были проанализированы в кабинете продюсера и оба варианта были поочередно проиграны несколько раз, стало очевидно, что оба они имеют недостаток, который мы совершенно не осознали в студии, – они были монотонны.
В каждом из вариантов использовалась своя фразировка темы, что вполне разрешается импровизационными свободами стиля барокко. Вариант шестой представлял тему в торжественном духе, lеgato, в довольно помпезном стиле, тогда как в варианте восьмом тема звучала остро, здесь преобладала манера стаккато, что привело к общему впечатлению живости и игривости. Затем в фуге имеется ряд стретт и других приемов имитации, так что первоначальная трактовка темы определяет атмосферу всей фуги. По трезвому размышлению было решено, что ни тевтонской суровости шестого варианта, ни неоправданному ликованию восьмого не может быть позволено представлять наши наиболее сокровенные мысли об этой фуге. Вдруг кто-то заметил, что несмотря на такие большие различия в характере оба варианта исполнялись почти в одном темпе, – обстоятельство, безусловно, редкое, поскольку темп почти всегда является результатом фразировки. Было решено этим воспользоваться, создав исполнение, состоящее из чередования шестого и восьмого вариантов.
Как только это решение было принято, не составило большого труда осуществить его. Было ясно, что властная и повелительная интонация шестого варианта полностью подходит для экспозиции и заключительного раздела фуги, тогда как кипучий и возбужденный характер восьмого был желательным облегчением в модуляциях среднего раздела… Таким образом мы достигли гораздо более хорошего исполнения фуги, чем то, которое мы могли сделать тогда в студии… Грамзапись дает то огромное преимущество, что даже после исполнения интерпретацию можно значительно улучшить и тем самым преодолеть преграды, стоящие перед исполнительством.
Эти примеры иллюстрируют основные моменты гульдовской философии грамзаписи. Главное здесь то, что он не считал запись, произведенную в студии, окончательным итогом работы, – творческий процесс продолжается при монтировании вариантов, причем существенно, что это могут быть различные интерпретации, а не просто наилучшие попытки записи одной и той же трактовки.
Интересен метод работы Гульда над произведением, предполагаемым для записи. Пианист рассказывал, что вообще он играет на инструменте мало. Его больше всего заботит “специальный и очень особый взгляд” на произведение. В этом смысле показательны его записи фортепианных сонат Бетховена, сделанные в начале шестидесятых годов. Гульд говорил, что знал сонаты Бетховена с юности и мог бы сыграть любую из них наизусть. Однако “особый взгляд” на них он вырабатывал примерно за две недели до срока записи.
Необычайно ярко это “особое отношение” проявилось в гульдовских записях поздних сонат Бетховена. Их образный строй, соотношение темпов и динамики, тембры фортепианного звучания – все это трактуется Гульдом в высшей степени оригинально. Гульд – экстремист. Но наблюдая его постоянное стремление избежать, как он говорил, “золотой середины, увековеченной на пластинке многими превосходными пианистами”, невольно ловишь себя на мысли, что в ряде случаев это стремление оказывается у Гульда слишком очевидно главенствующим. Оригинальности “любой ценой” приносится порой в жертву творческая воля самого композитора. И Гульд, решившись обнародовать свои концепции, должен был быть готов к бушевавшей вокруг него критике.
И, наконец, монтаж – этот больной вопрос грамзаписи. В одном из интервью, опубликованном в 1962 году, Гульд говорил об этом: “Я могу честно сказать, что пользуюсь монтажом очень редко. Многие части я играю целиком от начала и до конца. Но я могу также заявить, что у меня нет сомнений относительно склеек… Я категорически отвергаю мысль, что механическое соединение частей для достижения идеального исполнения – это мошенничество. Если идеальное исполнение достигается в значительной степени с помощью иллюзии – дай бог силы тому, кто это делает”. Таковы самые основные положения гульдовской концепции грамзаписи.
Даже из того, что мы сообщили о количестве опубликованных статей Гульда, ясно, что нам удалось включить в рассказ о нем лишь очень немногое из его высказываний. Однако надеемся, что и по этим его суждениям у читателя сложится впечатление о выдающемся музыканте как о личности глубокой, значительной, в высшей степени неординарной.
От редакции сайта:
вежливая статья Майкапара, посвященная Гульду – одна из первых и весьма скромных «ласточек», появившихся в конце советской эпохи, а потому по привычке изъяснявшихся отчасти эзоповым языком.
Мы намерены опубликовать и другие статьи, в том числе откровенные и нередко парадоксальные высказывания самого Гульда, не отягощенного цензурными проблемами.
Материал взят с сайта
http://rimkor.edu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=65